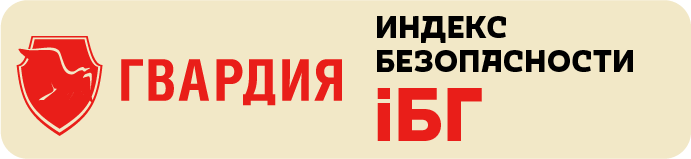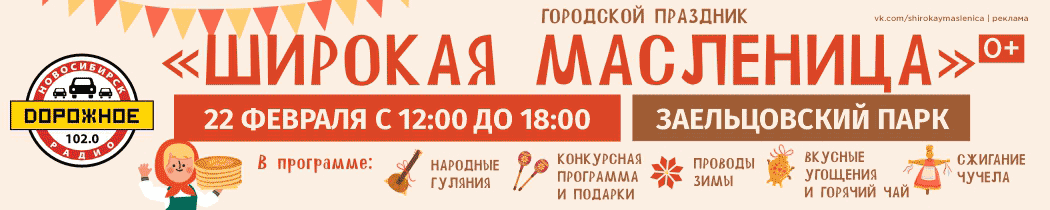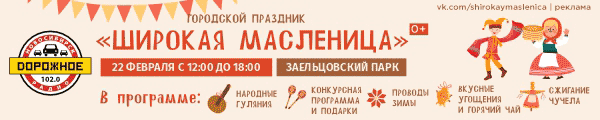Григорий Сенько вспоминает об оккупации, днях, проведённых в концлагере, но его голос не дрожит, на глазах нет слёз. Мы сидим на маленькой светлой кухне. Разговор то и дело переходит из прошлого времени в настоящее, словно перед нами всё тот же семилетний мальчик, который в Белоруссии встретил войну. Бывший малолетний узник концлагеря рассказал корреспонденту Сиб.фм о том, как он перестал плакать и остался жить.
— Я перестал плакать в 1941 году, в июле. Всех стали сгонять на колхозный двор, и брат Иван сказал мне спрятаться. В это время прибежала девчонка с еврейской семьи со словами: «Спрячьте меня, у нас всех евреев убивают». Мы до этого играли в прятки и вырыли нору в большой копне сена, туда её запихнули, а в это время немцы стали во двор заходить.
Сначала долго искали, потом длинной проволокой девчонку задели, та вскрикнула. Что-то по-немецки у неё спросили, она на нас показала. Вместе нас на площадь пригнали. У стенки уже человек тридцать стояло, я оказался самым крайним. Начался расстрел. Немец стрелял, а мы вздрагивали. У женщины на руках был ребёнок, может быть месяцев девяти. Когда немец к ним подошёл, женщина бросила ребёнка стоящим людям. Тот повернулся и с пистолета застрелил сначала ребёнка, потом её.
Брат Иван стоял в толпе и всё время меня звал. Когда немец повернулся, я схватил младшего, Виктора, за руку, народ раздвинулся, и мы за них на землю упали. Там и пролежали до самого конца и всё видели.
Даже сейчас я говорю, а в горле такой комок стоит и неприятный запах. С тех пор я не плакал. Никогда.
В одном районе Новосибирска с Григорием Семёновичем живут ещё тридцать малолетних узников фашистских концлагерей. Они часто собираются, говорят, что это «основная наша лечебная процедура». Из тридцати человек только пять могут вспоминать прошлое, остальные сразу начинают плакать.

— Примерно в 1978 году мы строили химический комбинат в Иркутской области. С одним немцем, который курировал электрическую часть, по воскресеньям мы ездили на природу. Естественно, выпили, разговорились, и он рассказывает: «Я в Германии бесплатно машину получаю, обстановку в квартиру, раз в пять лет езжу в круиз, я дитя войны». Оказалось, что его отец погиб здесь, на востоке России.
В 1968 году я поступал в НИИ и добросовестно во всех анкетах указал, что был в плену на оккупационной зоне в концлагере «Озаричи». Поступал по рекомендации авторитетного товарища этого института. Потом начальник отдела кадров принёс мне вторую анкету и сказал: «Слушай, на, перепиши, и вот это не указывай, потому что иначе рассматривать не будут». Рассекречивать себя мы стали уже с 1982 года.
20 тысяч человек погибли в концлагере «Озаричи» в Белоруссии
Григорий не торопясь наливает чай. Он помнит всё в мельчайших подробностях.
— Мне было семь лет, как раз собирался пойти в школу. Я был седьмой в семье, кроме меня ещё две сестры и четыре брата. Где-то в 12 часов мы только сели за стол кушать, как синичка в окно постучалась. Я ещё удивился: в лесу их видел, а в деревню синицы не залетали. «Ну, жди новость», — сказала старшая сестра Серафима. И моментально с другой стороны раздался стук, аж стекло задрожало: «Дядька Семён, война!» Отец опустил ложку, встал, надел свой картуз и пошёл на колхозный двор. Потом пришёл, Серафима вновь достала чугунок из печки и все молчком поели. Отец сложил в вещмешок две булки хлеба, сало, рубашку, портянки, молча же каждого обнял и на закате солнца мы проводили его до конца деревни.
Семён Сенько, отец Григория, вернулся с войны, когда мальчик после освобождения из концлагеря «Озаричи» уже был в детском доме.
«Озаричи» в то время были единственным в Европе лагерем, в котором мирных жителей содержали в болоте, под открытым небом, без тепла и пищи.

— Кажется, воскресенье было, и мы собрались утром покататься на коньках, они тогда были самодельные. Только начали набирать ход, как смотрим — немцы серой массой выходят метров через десять друг от друга. Потом ещё сзади идёт цепь, и приближаются к нашим хатам. Приехали две легковых немецких машины, оттуда вылезли три офицера и женщина-блондинка. Один немец начал говорить, а девушка переводила: «Сейчас вас всех отправят на Украину, там хорошо жить, там много хлеба, яблок, скоро весна». В это время стали подходить большие крытые машины. Помню, я на неё подняться никак не могу, а братья мне руки почему-то не подают. Я только сейчас понял, что они сообразили, куда нас повезут. Полмесяца до этого мимо нашей деревни большим потоком шли люди, даже ночью.
Три дня мы пробыли за «колючкой» прямо в поле — в пургу, мороз. На третий день с утра выдали какое-то зерно и построили в колонну.

По некоторым данным, концлагерь «Озаричи» — единственный, в создании которого лично принимал участие Адольф Гитлер
Весь день мы шли. С обеих сторон были немцы с автоматами. Тех, кто падал, сапогом ударяли, а если не поднимался — с автомата стреляли и сбрасывали в канаву. Я так часто слышал выстрелы. Шли мы целый день, я тоже упал, и тоже надо мной возник немецкий сапог, а сил подняться не было. Вдруг меня поднимает молодой парень-власовец со словами: «Это мой, мой!» И садит на телегу, а там ребятишек уже было порядком.
Григорий Семёнович вспоминает, что лагерь «Озаричи» в народе назвали «Живой щит»: голый лес, огороженный тремя рядами колючей проволоки. Ветви деревьев использовали в качестве подстилки. Никаких навесов, туалета не было.
— Настелили каких-то веток, не знаю, откуда их братья принесли, может быть, уже из-под мёртвых вытаскивали. Не было воды. Помню один раз пришла машина с хлебом, и поляк с дубиной ходил и поднимал всех. Тех, кто не вставал, он добивал. Вот и к нам подошёл тоже. Братья ушли куда-то и со мной был старик со Смоленска, у него тоже сил не было. Поляк замахнулся на меня, а старик собой закрыл. Так я остался жить.
Из машины бросали что-то чёрное, а когда толпа разошлась, то земля была устелена трупами.
Как-то утром просыпаюсь, а вокруг — тишина такая звенящая, приятная. На вышку взгляд бросил, а немца не видно. Толкаю братьев, они приподнимаются оба — и в это время раздаётся взрыв. Иван меня хватает и прижимает к себе.


Узники концлагеря становились «живым щитом», их умышленно заражали тифом, чтобы вызвать эпидемию у советских солдат в случае отступления немецких войск
Оказалось, что старушка с нашей деревни, баба Агриппина, проснулась, увидела, что немцев нет, и решила свою подстилку подсушить. Лежали-то все в мокроте в болоте. Взяла её и на проволоку бросила, а мины пошли взрываться. Только с нашей деревни тогда погибло человек семь. Примерно через час появились наши солдаты и в рупор стали кричать: «Товарищи, немцев нет, но вы к проволоке не подходите, всё заминировано, мы скоро откроем».
Много лет спустя он приехал в родную деревню, но уснуть там так и не смог.
— К вечеру нас привезли в какое-то селение, поселили в такие большущие военные палатки. Дали полевого супа и по кусочку хлеба.
Проснулся от холода. Глаза открываю: темно, всё кругом холодное. Вышел, оказалось, что был в сарае каком-то. Вернулся в палатку. Солдат, что дежурил у печки, присматривался, присматривался так ко мне, потом принёс кружку чая: «На, сынок, пивни один раз».
Утром поднялись, а половина палатки пустая, хотя ложились плотно. Позавтракали, я вышел, а туалета нигде не оказалось. Решил пойти в этот сарай. Захожу, а там лежат три кучки мёртвых тел ребятишек. Оказывается, и я на одной кучке ночью побывал.

Григорий Семёнович рассказывает неторопливо, без надрыва и слезы в голосе. Вообще, о детстве в концлагере бывшие узники боятся рассказывать своим близким. Не только потому, что это очень тяжело вспоминать — оказывается, есть поверье, что то, что вспоминают вслух, может повториться в судьбе следующих поколений.
— Ещё не было шести утра, когда в нашу комнату в детском доме вдруг зашла воспитательница Мария Николаевна со словами: «Дети, война кончилась!» Все вскочили, встали — и тишина... Потом как закричат: «Ура!» — и подушки начали бросать в потолок.