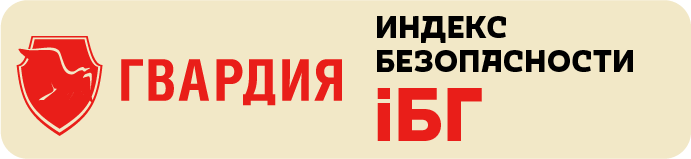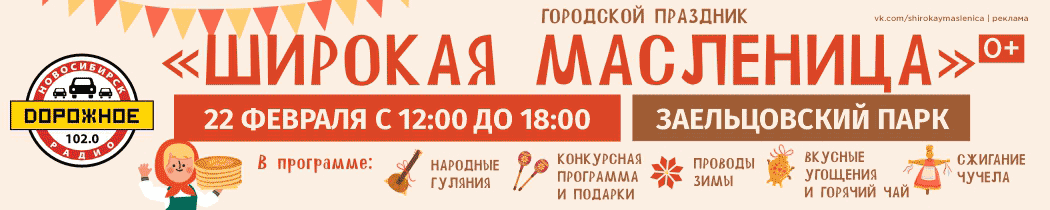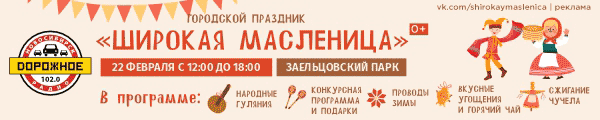Обычно с Валерой Титиевским мы общаемся в редакции Сиб.фм или по телефону — на бегу и всё больше про работу: что и когда снимаем, в цвете или его любимые чёрно-белые. В этот раз мы встретились в кофейне в центре Новосибирска и разговаривали часа четыре. Сгрузив тяжёлую сумку, напичканную аппаратурой, положив на стол фотокамеру, Валерий без патетики рассказал о своей профессии, выкурил не меньше пачки сигарет и признался корреспонденту Сиб.фм, что фотограф — диагноз неизлечимый.

Как ты оказался в фотожурналистике?

Фотожурналистика — особая форма журналистики, использующая фотографию в качестве основного средства выражения
Сначала фотографией я не серьёзно занимался. Во втором классе попросил фотоаппарат, и мне купили «Смену». Снял первую плёнку, и — так классно получилась! А вторая не получилась, фотоаппарат «ушёл» на полку. Так эпизодически я то снимал, то не снимал. В седьмом классе влюбился в девочку. Так как её фотографии у меня не было, я начал «папаратствовать». Отпрашивался за пять минут до конца урока, прятал «Смену» под пиджак и ждал возле её класса. Когда она выходила, делал пару кадров и убегал. Потом печатал фотографии. Они были мутные, но душу грели.
Году в
А ещё я тогда посмотрел фильм «Под огнём» с Ником Нолти. Фотограф работает в Никарагуа, Гондурасе, Сальвадоре — тогда я ещё не знал, что тоже туда попаду.
И меня это зацепило. Я понял — всё, хочу! Хочу снимать войны, хочу быть военным фотографом. И попёрло. Я бросил институт, уехал в Уфу и поступил на единственные в Союзе курсы фотокорреспондентов. Моя дипломная работа была из колонии для несовершеннолетних: юные преступники, карцер, злые собаки. Таких фотографий не было ни у кого, никто никогда этого не видел. Единственный вопрос, который мне задала шокированная комиссия: «Как ты туда попал?». Я ответил, что не скажу, я — журналист, источники не выдаю.

А как ты в западные СМИ попал?
Естественное желание — хотеть чего-то большего. Когда меня опубликовал «Огонёк» — самый крутой по тем временам журнал, и затем журнал «Советский Союз», который на Западе выходил и где работали известные фотографы, мне захотелось попасть в издания уже не нашего происхождения. Учиться было не на чем. Одна знакомая девочка работала в залах ГПНТБ, куда пускали только по специальным читательским билетам. Я приходил, когда у неё был санитарный день, и мог спокойно смотреть западные фотожурналы. Когда я увидел в первый раз Life, он меня потряс. Вот настоящая фотография — я понял это.
10 миллионов фотографий включает архив Life (журнал основан в 1936 году)
Что тебя так поразило?
Как это снято. Там была настоящая жизнь, боевые действия, разгоны демонстраций. Фотографы были везде. Я понял, что смогу увидеть весь мир — такая романтика. Позднее, когда я объездил все страны, то осознал, что ничего там не видел, кроме своей работы. Снимаешь километры плёнки. Тебя спрашивают — ну как там? А мне нечего сказать. Я снимал не то, что вы хотите. Я был не там, где туристы бывают.
Тебе когда-нибудь бывало страшно в твоих командировках?
Конечно. Но обычно, когда я подношу камеру к глазу, когда я посмотрел в видоискатель, — весь прочий мир перестаёт существовать. Он у меня здесь — очерчен рамками кадра. Потом, когда возвращаешься домой, начинаешь отсматривать материал — приходишь в ужас. И думаешь: больше не поеду, хватит, надоело не спать, голодать, замерзать, мучиться от жажды. Это не такая красивая профессия, как в кино показывают.
Чтобы сделать достоверную историю, нужно жить с теми людьми, провести с ними часть жизни, чтобы они тебе поверили.
А потом с ужасом осознаёшь: если ты можешь прекратить этот кошмар, улететь домой — то для них это и есть дом. И ты понимаешь, что главное — не боевые действия (солдаты погибают — это война), а мирные жители, которые там и ни в чём не виноваты.

На самом деле съёмка на войне достаточно скучная. Ничего не происходит, а если происходит — это редкостная удача. А так сидишь, ждёшь. Главное — ждать. Потом, когда у меня стал подрастать сын, я подумал в одной из командировок, что пора тормознуться. Мысль какая-то дурацкая появилась, что я нужен моим близким — живым. Вот это было ужасно, потому что близкие встали между мной и работой.

Фотография Эрнесто Че Гевары в чёрном берете признана символом XX века, самой знаменитой и самой воспроизводимой фотографией в мире
Профессиональная этика репортёра. Что это такое для тебя?
Человеческая жизнь не стоит никакого кадра. Если я могу помочь — я всем пожертвую, но буду спасать. Если я не в силах ничего сделать — я буду снимать. Многие думают, что фотографы — стервятники: налетели, сняли, убежали. Нет. Фотографы — люди. Некоторые репортёры столько лет войны снимают, такое количество горя видели, что в кошмарном сне не приснится. И то, что они переживают постоянно, это страшно. Если бы мы были каменные, циники, отморозки. Но всё, что ты видишь — через себя пропускаешь. Когда ты там — ты как скала, ты фиксируешь историю. Но если начинаешь поддаваться эмоциям — фотографии уже нет. Ты должен сделать работу, а потом всё остальное. Но когда ты приезжаешь домой, смотришь свои кадры — начинаешь переживать по новой. И тебе не с кем поделиться. Я не могу рассказать жене и ребёнку то, что я там видел, то, что я пережил. Ты это носишь в себе, ты с этим живёшь, и чем дальше, тем хуже. Кто-то спивается, но невозможно это залить водкой.
Американцы говорили: вам легче, вы живёте в состоянии постоянного экстрима — что дома, что на войне.
Действительно, много западных журналистов сходит с ума, кончает жизнь самоубийством. А русские — они железные. И, когда ты возвращаешься к нормальной жизни, проходит какое-то время — тебе снова хочется туда. Как наркотик. Может быть, там всё проще? Есть белое и чёрное. А здесь всё серое.

А как ты пересылал фотографии в западные СМИ, когда не было интернета?

В 2009 году власти Тегерана не выпустили из отелей журналистов мировых фотоагентств во время акции протеста иранцев против результатов президентских выборов
В Москве работали представители этих изданий — через них. Я снимал плёнку, ехал на аэродром и передавал с самолётом. Здесь же звонил из автомата, курьер в Москве приезжал в аэропорт, получал пакет, бежал на другой самолёт, который летел в Париж, передавал плёнку. Её проявляли, печатали, публиковали. Плёнки не возвращались, а иногда просто исчезали, не попав к адресату. Снимаешь недели две в горячей точке, отдаёшь на какой-нибудь военный борт, платишь деньги и — дальше неизвестность. Дико обидно. Не потому что ты не заработал — я на это не обращал внимания. А потому что на этой плёнке была история.
Какие гонорары платили?
В среднем 250 долларов за приличную фотографию, сделанную с плёнки. Когда я узнал о размере гонораров западных коллег, был шокирован. Издания платили 2 500 долларов за разворот в журнале, и таких разворотов могло быть шесть-восемь сразу. Был фотограф, уже не вспомню фамилию, он получил гонорар 30 000 евро за публикацию в одном известном западном издании. Правда, половину этих денег он потратил на съёмку. Своим фотографам западные СМИ платили в десять раз больше, чем чужим, плюс, оплачивали страховку на один-два миллиона.

Я ездил без страховок и не думал об этом. И жене в последний момент говорил, что уезжаю — в Красноярский край, например. Она не верила: «Откажись», — говорила. «Не могу. Я дал слово». Потом приезжал из «Красноярска» загорелый, с мешком грецких орехов.

Мог и не вернуться. Не хочется говорить про это. Тогда журналистов не так часто убивали, как сейчас. Никто не хочет, чтобы люди видели правду. Когда замечают блеск объектива, стреляют прицельно. В Ливии, в Афгане сколько журналистов погибло, наверное, больше, чем за все ранние конфликты...

Стоимость самой дорогой в мире фотографии — $ 3 346 456. Снял её фотограф Андреас Гурски
С приходом «цифры» разница в размерах гонораров нивелировалась, и сейчас в целом платят меньше.
Когда ты работал в «Коммерсанте», то много фотографировал элиту — политики, бизнеса. Это тоже особая съёмка?
Такая же, как другая. Только нет возможности сделать дубль. Ведь ты не можешь попросить президента ещё раз что-нибудь повторить. Всё решают доли секунды, момент.
Все, кто пробился наверх, — не важно, президент или банкир, — это люди с харизмой. У всех есть что-то такое, что тебя цепляет. Наблюдать за ними — это фантастика. Ты замечаешь многое. Есть масса забавных фотографий. Путин, с вазочкой цветов наклонившийся перед Толоконским (полпред СФО — прим. Сиб.фм), сидящим в кресле. Если не знать подоплёку, полное ощущение, что президент цветы подносит. Фотографией можно перевернуть всё с точностью до наоборот.

Опасная вещь...
Фотография — страшная сила, это оружие, которое можно использовать как угодно. Практически невозможно из глупого человека умного сделать. А из умного дурака — несложно. Всё зависит от того, как снять.
У тебя бывало так, что твой снимок не публиковали, потому что все испугались?
Конечно. Не один раз — много. Сейчас официальной цензуры нет, но все оглядываются на рекламодателя или «политику издания». Помню, был однажды пикет в поддержку опять же Путина. И некие господа развернули плакат: «Путин лучше Гитлера!». Дядьки в штатском бегали и орали, чтобы это не снимали. «Почему не снимать, — спрашиваю. — Это же есть». — «Это не типично для этого митинга». Ребята, ну если это было, я это снял. Когда я предложил снимок российским изданиям — отказались все. Хотя там всё правильно — Путин лучше Гитлера однозначно.
И только «Коммерсантъ» опубликовал эту фотографию и ещё «Франс Пресс». Причём обычно они не переводят то, что пишется на лозунгах. А здесь перевели. Половина всех западных журналов и газет в тот день были мои!
Никуда не уезжая из Новосибирска, я сделал кадр, который обошёл весь мир.
У всех изданий свои правила игры: у «Таймс», «Чикаго Требьюн», «Шпигель». Из тех журналов, которые публикуют всё и ничего не боятся, дают такое, что читателя вывернет наизнанку, это, пожалуй, «Штерн». И интернет пока не перекрыли. Постепенно фотожурналистика уходит в глобальную сеть. И это ужасно на самом деле.

Что труднее всего снимать?
Радость, наверное. Люди фальшивы в своей радости. Улыбки есть, а глаза грустные. Горе снимать проще. Сейчас стало сложнее снимать всё что угодно. Все стали более настороженно относиться к фотографу, чего-то бояться. Чего — я не знаю.
Я люблю фотографировать парочки. Когда люди друг друга любят, получаешь столько положительных эмоций, видишь трогательные отношения, как они нежно друг к другу относятся. Вчера снимал такую. Иду по городу, вижу, стоит паренёк с розочкой. Ага, девушку ждёт. Минут десять караулю его, появляется девочка. Мальчик дарит розочку, и они начинают целоваться с розочкой в руке. Я снимаю издалека, иду ближе, мне нужно снять, чтобы чувствовалось, что я присутствовал при поцелуе. Я снимаю их в упор минуты полторы. Вокруг собираются люди, которые начинают снимать на мобильники уже меня, как я фотографирую. В этот момент мимо идёт женщина — вот сейчас будет классный кадр! Но тут она догадывается, отворачивается. На снимке это выглядит так, будто женщина отвернулась, чтобы не смущать влюблённых.
Как относишься к папарацци?
Резко отрицательно. Это мерзко, противно, низко. Никогда этим не занимался. Да, я наблюдаю за жизнью, но я не лезу ни к кому в квартиру. Журналистика — это не папарацци.

Как ты оцениваешь состояние фотожурналистики в целом и в Сибири в частности?

В 1826 году Жозеф Нисефор Ньепс с использованием восьмичасовой выдержки сделал первую в истории фотографию — «Вид из окна на Le Gras»
В Москве, Питере ещё что-то теплится. А в Новосибирске — ничего. Здесь нет фотожурналистики. Есть несколько фотографов, которые пытаются что-то делать. Есть интернет-проект Сиб.фм — ребята делают что-то более-менее похожее на журналистику. То, что происходит, со стороны выглядит не то чтобы как умирание, но фотожурналистика перемещается из печатных СМИ в интернет. Блогеры, очевидцы событий опережают нас. Многие издания стали экономить на фотографах, покупают снимки у агентств, а те в свою очередь урезали штаты. В Америке тоже кучу классных фоторепортёров сократили. Появилось много хороших средних фотографов. Но звёзд вроде Брессона практически нет. Фотографии теряют индивидуальность, это плохо.
Я перестал снимать войну, когда понял, что никто Россию не снимает. Зайдите на сайт любого агентства. Кликните «Индия» — и вывалится 20 тысяч фотоисторий. Кликните «Россия» — одна, две, три. И то, как правило, об одном — пьянство, наука. А жизни простых людей нет нигде. Хотя даже в Новосибирске можно найти то, что будет опубликовано по всему миру. Я решил, что основное время буду жить здесь, в Сибири.
Сейчас я снимаю Новосибирск, Томск, Алтай, Кемерово, деревни. Эта съёмка мало востребована. Но я понимаю, что это оценят через десять, двадцать лет.
Чего ещё ты хочешь?
Я живу в большом дурацком городе, но когда-нибудь я мечтаю всё бросить и уехать в деревню. В моё родное Подгорное в

Твои фотографии публиковали Rolling Stone, The Financial Times, National Geographic, Der Spiegel, Stern — самые крутые и престижные. Что ты считаешь своей самой большой профессиональной удачей?
Это банально, но я надеюсь, что не сделал ещё свой лучший кадр. Я ещё только начинаю снимать. Я только на подходе. Раньше мне хотелось сделать фотографию, которая во все учебники войдёт. Но не хочется быть певцом одной песни. Одно я знаю точно: раз — и на плёнке есть то, что никогда не повторится. И то, что есть на моих старых негативах — это уже летопись даже в этом городе. Уже нет многих мест, лица изменились. И ты понимаешь, что уже попал в историю, и представляешь, как люди будут смотреть на эти фотографии через сто лет.