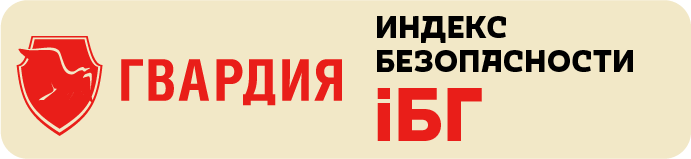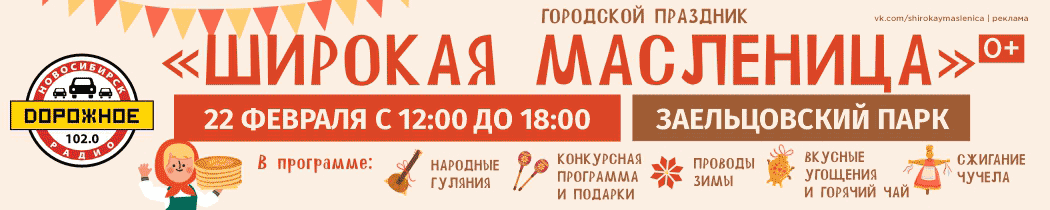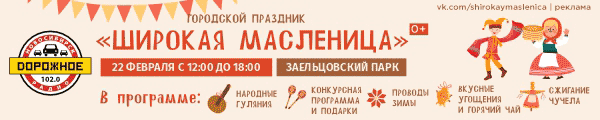В своей авторской колонке для Сиб.фм бывший кемеровский журналист и литератор Юрий Юдин небезуспешно пытается доказать, что среди сибирских писателей весельчаков и юмористов нисколько не меньше, чем среди одесситов.
В глубине души я всегда делил словесность на смешную и плохую. Поэтому чрезмерно серьёзные писатели вроде Лермонтова или Бунина никогда у меня особенного сочувствия не вызывали.
Можно возразить, что и Лев Толстой никогда не острит. Зато у него немало забавных персонажей. Учитель Карл Иваныч в «Детстве». Пьер Безухов, мелкопоместный дядюшка и полководец Кутузов в «Войне и мире». Стива Облонский, Васенька Весловский и Бетси Тверская в «Анне Карениной». Прелестный Филиппок из детских рассказов... Да и Наташа Ростова очень смешная особа — недаром же она сделалась героиней цикла анекдотов о поручике Ржевском.
Дмитрий Быков рассказывал, как пришёл однажды брать интервью у восьмидесятилетнего Фазиля Искандера, и спросил, почему все российские юмористы — южане.
7 шахматистов еврейской национальности добились звания чемпиона мира
«Это напоминает мне, — сказал живой классик с сардонической улыбочкой, — вопрос из рассказа Аксёнова: почему все шахматисты — евреи».
«Но смотрите сами: Гоголь — Полтава, Чехов — Таганрог, Аверченко — Харьков, Ильф, Петров, Жванецкий — Одесса, вы — Абхазия, Зощенко — украинец, хоть и родился в Петербурге (сын художника-полтавчанина)».
Поразмыслив, собеседники пришли к выводу, что южане прибывают из солнечных мест, где все друг друга знают и все друг другу радуются.
Когда же они сталкиваются с северною чопорностью и отчуждённостью, они вынуждены смягчать её юмором.
Правда, запасы юмора порой иссякают, и тогда Гоголь пишет «Выбранные места», Чехов — «Скучную историю», а Зощенко — «Перед восходом солнца».
На первый взгляд это достаточно убедительная гипотеза (причём список остроумных южан можно пополнить киевлянином Булгаковым, одесситами Сашей Чёрным и Корнеем Чуковским и другими).
Но, поразмыслив, неизбежно придёшь к выводу, что Север дал нисколько не меньше весельчаков и остроумцев. Считайте сами:
Фонвизин и Грибоедов.
Достоевский (перечитайте «Село Степанчиково») и Чернышевский («Что делать» всё-таки очень смешной роман).

«Герои трагедии — люди высокого положения, комедии — всякий сброд». Так различал Аристотель комедию и трагедию в своё время
Салтыков-Щедрин и Лесков. Сухово-Кобылин и Островский. Алексей К. Толстой с Козьмой Прутковым. Алексей Н. Толстой с графом Невзоровым и графом Калиостро.
Николай Эрдман и Владимир Масс, его соавтор по блистательным басням. Хармс и Заболоцкий. Евгений Шварц и Григорий Горин. Сергей Довлатов и Венедикт Ерофеев. Владимир Уфлянд и Дмитрий Пригов. Игорь Иртеньев и Виктор Шендерович. Татьяна Толстая и Владимир Сорокин.
Всё это — уроженцы столиц либо нечернозёмных северных губерний.
Венедикт Ерофеев и вовсе родился на Крайнем Севере — на Кольском полуострове. Один этот пример способен опрокинуть скороспелую гипотезу Быкова — Искандера.
Тем не менее я задумался, сколько смешных писателей дала Сибирь.
Понятно, надо сделать поправку на разреженность населения и толщину культурного слоя. И тогда мы увидим, что и в Сибири с юмористами всё было хорошо.
Первым крупным сибирским писателем следует считать протопопа Аввакума, в миру Аввакума Петровича Кондратьева (1620–1682). Происходил он с Нижегородчины, казнён был в Пустозёрске на реке Печоре. Но десять самых плодотворных лет провёл в сибирской ссылке — в Тобольске и в Даурском краю, как тогда именовали Забайкалье.
Что Аввакум был одним из самых едких и остроумных русских писателей — это не подлежит сомнению.
Его и казнили не за раскол, а за резкие послания, обличающие государя Алексея Михайловича.
43 сочинения припысывают протопопу Аввакуму
При этом Аввакум оставил в Сибири след, подобный выжженной полосе, триста лет не зарастающей. Интонации его легко опознать, например, в сочинениях Виктора Астафьева. Правда, у Астафьева гораздо меньше весёлости и преобладает сарказм.
Первый классик из сибирских уроженцев, Пётр Павлович Ершов (1815–1869), автор «Конька-Горбунка», всю жизнь прожил в Тобольске, исключая годы учения в Питере.
Что «Конёк-Горбунок» — очень смешная сказка, никто спорить не будет. Перу Ершова принадлежат также несколько комедий и замечательные куплеты для пьесы Козьмы Пруткова «Черепослов, сиречь Френолог».
Далее следует перерыв длиною почти в сто лет. В Сибири продолжали являться крупные писатели, в сочинениях их найдутся смешные страницы, но записными юмористами их считать трудно.
Однако в 1960-х появляется Василий Шукшин, который был рассказчиком не менее смешным, чем Чехов, а для театра писал исключительно комедии.
Отметим также замечательные ранние рассказы Евгения Попова, действие которых происходит «в сибирском городе К. на реке Е.». Правда, нынче Попов явно исписался.
Может быть, потому, что давно оторвался от сибирских корней.
Зато в том же городе К. недавно умер великолепный Михаил Успенский, самый смешной русский писатель рубежа веков.
Успенского принято числить по ведомству фантастики. На самом деле это писатель скорее мифологический. Из той же плеяды, что Виктор Пелевин и Татьяна Толстая. И при этом пародист не хуже Владимира Сорокина.

Рукопись романа «Шизгара, или Незабвенное сибирское приключение» Сергея Солоуха в 1992 году был номинирован на Букеровскую премию
Замечательной весёлостью отличался первый роман Сергея Солоуха «Шизгара», хотя в следующих своих сочинениях он становился всё более чувствительным и всё менее смешным. Похожую эволюцию проделал и Евгений Гришковец: от очень весёлого театра «Ложа» и трагикомедии «Зима» — к патетическим и скучным романам.
Был ещё многообещающий Евгений Шестаков, уроженец Новокузнецка, автор нескольких уморительных рассказов (найдите в сети его «Крылья Родины») — но увы, очень скоро растворился в мутном телевизионном «Аншлаге».
Можно вспомнить также, что в Новосибирске произросла собственная обэриутская традиция — от Ивана Овчинникова до Игоря Лощилова.
Но это и ещё далеко не всё.
Немалые ресурсы смешного кроются, например, в самых кондовых сибирских эпопеях, произведённых на свет в самые глухие советские времена.
Возьмём хотя бы сочинения Георгия Маркова (1911–1991), самого титулованного сибирского писателя. Георгий Мокеевич был лауреатом Сталинской и Ленинской премий, премии Ленинского комсомола, Госпремий УССР и РСФСР, дважды Героем Соцтруда, кавалером четырёх орденов Ленина.
Многотомные романы его «Строговы» (1946), «Соль земли» (1960), «Сибирь» (1973), «Грядущему веку» (1982) были изданы общим тиражом в несколько миллионов экземпляров и удостоились многосерийных экранизаций на ТВ. Ныне они прочно забыты, и даже недавний столетний юбилей Георгия Мокеевича ничего не поправил.
Почти все романы Маркова следуют канону колхозной эпопеи, заданному «Поднятой целиной» Шолохова. В каждом таком романе имеется правильный, но скучный парторг вроде Давыдова, страстный председатель с кашей в голове наподобие Нагульнова, вздорный старикашка-демагог типа деда Щукаря и распутная деревенская красавица по имени Стешка или Лушка.
В последнем романе Георгий Мокеевич, впрочем, решился уклониться от заезженной бороздки и сделал главным героем простого первого секретаря обкома некой сибирской области.
Лучшее представление об этой прозе может доставить пародия Михаила Успенского:
«Из-за стройного квартала многоэтажных домов экспериментальной серии показалась полная луна. Именно в такую лунную ночь первый секретарь краевого комитета КПСС Алексей Иванович Воронов шёл по пустырю, отделявшему новый микрорайон от промышленной части города, где высились возведённые по воле партии такие промышленные гиганты, как завод наличников и фабрика мелкой монеты.

«Была даже свинья-космонавт». Этими словами начинает Михаил Успенский произведение «Дорогой товарищ король»
В лужах, по которым шёл Алексей Иванович, находил своё отражение высокий, горбоносый, стройный ещё мужчина с тщательно выбритым лицом. Навстречу ему показалась седая голова. Это был директор комбината искусственных изделий Авдей Фомич Убиенных, кряжистый, волосатый крепыш с веснушками на широкой спине.
«Здравствуйте, Алексей Иванович, — сказал директор. — Труженики края не ошиблись, остановив свой выбор на вас. В вашем лице сочетаются энергия молодости и зрелый опыт повседневной работы. Вас отличает особое умение видеть всё самое передовое и в то же время с принципиальной прямотой отстаивать наработанные годами традиции... Но что вы делаете здесь в такое позднее время суток и без охраны?»
«Своих охранников, лейтенантов Козлова и Сафронова, я отдал туда, где они нужнее, — в общежитие камвольно-суконного комбината. По душе пришлись швеям-мотористкам рослые, плечистые парни в штатском, с военной выправкой и вправкой. Они переходят из комнаты в комнату, проверяя, всё ли у девчат на месте. Задорный смех льётся из окон общежития, обдавая тёплой волной случайных прохожих.
А я тайком от супруги разносил свою пятнадцатую зарплату наиболее низкооплачиваемым категориям трудящихся».
«Отчего же тайком? — нахмурился Авдей Фомич. — Неужели же Анастасия Петровна стала бы возражать? Разве такой помним мы Настю-комсомолку, любимицу всех ответственных работников города, края, да и самого Центра?»
«Нет, не такой, Авдей Фомич, не такой. Да она попросту увязалась бы за мной — постирать, приготовить в рабочих семьях, повозиться с крепкими бутузами. Только ведь сами знаете, — голос первого секретаря вздрогнул, — сколько сил она отдаёт вечернему ленинскому университету миллионов».
...Она заплакала, не скрывая нахлынувших слёз. На её всё ещё нестарой шее гордо сидела красавица голова. Алексей Иванович обнял жену уверенной рукой и невольно подумал:
«Годы проходят, а мои чувства к Анастасии по-прежнему свежи и крепки. Должно быть, так уж устроены мы, коммунисты».
Впрочем, у сибирских эпопей был и другой нетленный образец — роман Вячеслава Шишкова «Угрюм-река». На него ориентировались те, кто решал изображать не только колхозные, но и дореволюционные времена.
Пародию на эти сочинения дал тот же Дмитрий Быков в романе «Икс». Молодой журналист Гарькавый добивается встречи с маститым писателем Шелестовым и является на его московскую квартиру в сталинской высотке.

Лучшей литературой Дмитрий Быков считает фантастику — по заявлению писателя, её «надо изучать в школе»
«И всё-таки, как вы понимаете, — начал Гарькавый, — я не могу не спросить: есть ли замысел нового, так сказать, эпического романа?.. Потому что вы же понимаете, что после „Порогов“ весь мир продолжает ждать...»
«Эпический роман — хорошо, — процедил Шелестов. — Вы, может, чаю хотите?»
«Не откажусь», — сказал Гарькавый, уже уверившийся, что наглость берёт города.
«Чай... да... — повторил Шелестов. — Ну подождите, я поставлю».
Он ушёл на кухню, загремел там чайником, чиркнул спичкой и вернулся.
«Да, эпический роман, — сказал он. Гарькавый включил запись.
— Эпический роман „Залупа“ в трёх томах, про сибирскую жизнь. Ясно вижу синие эти тома».
Гарькавый ничему уже не удивлялся, но всё-таки вздрогнул.
«Заимка „Медвежья залупа“ терялась в глухой Саянской тайге, — поглаживая усы, продолжал Шелестов. — Густой быт. Три революции прокатились сквозь неё. Какой-нибудь купец там, скупщик меха. Или золотопромышленник. Фамилия будет Вяков, можно Крюкин. Мясоватый, с соком, с дегтярной кровью, апоплексического складу человек, все у него стоят раком. Большая семья Гугнивых. Папаша старовер, мамаша забита по маковку, трое сыновей, один другого дубоватей. Один по партейной части, другой по женской, третий дурак. Потом там золото нашли. Что смотришь, теля? Ну или нефть. Хороший роман, на государыню потянет. Государыня наша, гусыня» (...)
«Теперь клубника, — раздумчиво (это Гарькавый так думал, остатком сознания, потому что мозг его взрывался) говорил Шелестов, глядя в сине-зелёное окно. — Без клубники ноне ничего не делается. Там есть баба, звать на А. Они после Анфисы все на А. Ядрёная такая баба, повышенной плотности. Имеется у неё поступь. Её в десятилетнем возрасте снасильничал купец Вяков. Она с тех пор не верит в мужскую любовь, все у неё кобеля. Но тут пронзает её буквально до печени чистое чувство, и она купается в росе, бегает нагишом по разнотравью, имея в виду очиститься...»
Гарькавый уже ничего не понимал.
«Обратно же ты можешь спросить, молодой человек, зачем залупа. А? Ты можешь это спросить?
Отвечаю: я вижу в этом названии тугость. Тугость, очень присущую лучшим образцам. Весь век прошёл под знаком русской залупы. Бескрайняя плоть.
Что-то чайник, а?»
Чайник ответно засвистел. Сама неживая природа была послушна гению.
Журналист, пятясь, удаляется, запись никому не показывает, а через пять лет садится за сибирскую эпопею в трёх томах под названием «Судьба твоя». Здравный, своебышный и предкондрашный купец у него зовётся Зыков.
В общем, как говаривал Осип Мандельштам: зачем это пишут юмористические сочинения, когда и без того все вокруг смешно? И в студёной Сибири — совершенно в такой же степени, как в южных каких-нибудь краях.