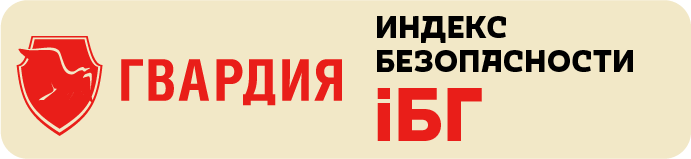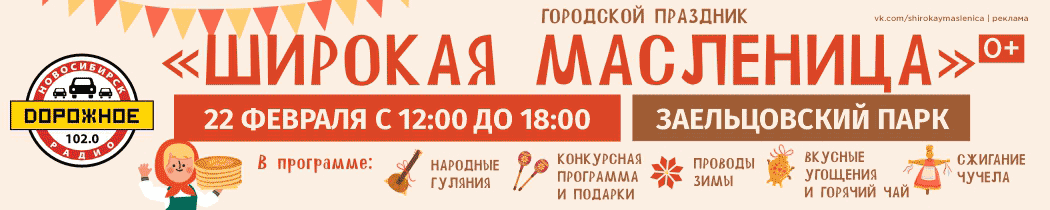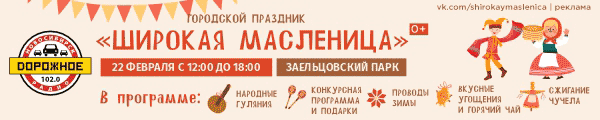Валерий Тюпа — доктор филологических наук, заведующий кафедрой теоретической и исторической поэтики Института филологии и истории РГГУ, специалист по нарратологии. Он приехал в Новосибирск по приглашению проекта «Открытая кафедра» и выступил с лекцией, в которой озвучил один из важнейших за последнее время выводов гуманитарных наук: человек становится человеком только через общение с другими людьми, то есть через коммуникацию. Корреспонденту Сиб.фм филолог рассказал, почему классическая русская литература завершает своё бытование, как изучать политику филологическими методами и что российские филологи могут дать миру.
Валерий Игоревич, в начале 2000-х годов философ и литературовед Игорь Смирнов, с которым вы общались и сотрудничали, высказал довольно парадоксальный тезис: плохо, когда общество начинает увлекаться литературоведением, имея в виду, что оно рассчитано на весьма узкий круг потребителей. Процитирую: «Когда оно ломает рамки этого круга, это означает, что общество находится в чрезвычайно дефицитарной ситуации и заполняет интересом к литературоведению нехватку информации, которая могла бы его удовлетворить в других сферах». Вы согласны с этим мнением?
Нет.

Почему?
Действительно, примерно в ту эпоху я общался с Игорем Смирновым, хотя и не слышал от него, что широкий интерес к литературоведению — это плохо. Он говорил, что эта наука заканчивается, литературоведы уходят в смежные области, и это правильно, к этому нужно готовиться.

Литературоведение изучает художественную литературу как явление человеческой культуры
Я думаю, всё-таки хорошо, если литературоведением интересуются не только специалисты, по той простой причине, что эта наука имеет дело с одним из ценнейших средоточий человеческой духовности и культуры — с литературой. Философия всё равно не может быть слишком многим доступна и интересна. Литература говорит о том же самом — о смысле существования, присутствии человека в мире. Говорит, в отличие от философии, о человеке с человеком напрямую.
Литературоведение же можно сравнить с оптическим прибором, который позволяет всем, кто интересуется этим кладезем духовности и мудрости, лучше разглядеть детали, или наоборот, охватить более широкий контекст.

Принято считать, что мы живём в литературоцентричной стране, при этом в последние годы часто можно услышать, что вот инженеры нам нужны, а без гуманитариев можно обойтись. На ваш взгляд, сегодня в обществе есть этот запрос на обращение к литературе, к литературному процессу?
Это, я думаю, своего рода болезнь нашего времени — насчёт инженеров и гуманитариев. Один из заместителей министра образования России некоторое время назад сказал прилюдно, что нам сейчас нужны не читатели, а «считатели». Это крайняя степень наивности, потому что в конечном счёте техническая и гуманитарная сферы культуры связаны неразрывно, и небрежение одной из них ведёт к общему упадку — в истории тому есть множество примеров.
Мы переживаем эпоху, когда многие из людей, имеющих власть, определяют движение жизни, и кажется, не понимают того, что мы, гуманитарии, понимаем. Надеюсь, это пройдёт.

Другое дело, что я совершенно не уверен, что у литературы есть будущее, столь же великое, как её прошлое. Жаль, если это так. Но, при моей любви к литературной классике, не вижу в этом ничего слишком страшного. Древнерусская литература, средневековая словесность — вся многовековая интеллектуальная культура, в сущности, умерла, осталась памятником. Из него мы черпаем, и немало, но тем не менее она больше не живёт. Вполне может быть, что та художественная литература, к которой мы привыкли, с корнями в античности, с расцветом в XVIII — XIX веках, тоже изживёт себя. Ей на смену могут прийти другие формы культуры, проникающие глубоко в человеческую жизнь, человеческую экзистенцию.

В 90-ые годы Тюпа заведовал кафедрой теории литературы Новосибирского государственного педагогического университета
Я всё время надеюсь, что пройдёт безвременье, подобное тому, которое во времена Чехова констатировалось в литературе, но не могу сказать, что это действительно гарантировано. Даже сам Чехов в молодости называл себя и других писателей «мелкотравчатыми», говорил, что они войдут в историю только все вместе, никто не войдёт ярким и великим.
На самом деле, Чехов принадлежит эпохе кризиса. Рубеж XIX — XX веков — начало кризиса той эгоцентрической культуры, культуры уединённого сознания, которая породила романтизм, шедевры XIX века. Но кризис в культуре — это не финансовый кризис — это не значит, что чего-то недостаёт. Кризис в культуре — это наличие нескольких «трендов», как теперь говорят. И рубеж XIX — XX веков это прекрасно показал и дал великолепный ХХ век в литературе.

Что может прийти на смену? Не живём ли мы в предчувствии смены парадигмы, нового «большого стиля»?

Сёрен Кьеркегор — один из главных представителей постромантизма
Я надеюсь, что кризис, в эпоху которого мы живём — постмодернизм, пост-постмодернизм и так далее — тоже продуктивный, и из него может, должно, я бы сказал, созреть нечто существенное.
Примеров в истории есть как минимум три. Кроме рубежа XIX и ХХ веков это XVI век, эпоха барокко. Глубокий кризис традиционной риторической культуры, рефлективного традиционализма — и великолепные результаты. Кризис конца XVIII века дал романтизм, постромантизм.
Мы сейчас, несомненно, живём в кризисную эпоху. Почему бы не созреть в эту эпоху чему-нибудь замечательному? Но не решаюсь, как Брехт, сказать: «Плохой конец заранее отброшен, он должен, должен, должен быть хорошим».


Бертольт Брехт — немецкий режиссёр и драматург, автор концепции «эпического театра»
Да, но для того, чтобы из, так сказать, кризисного субстрата что-то созрело, нужны, грубо говоря, не только писатели, но и читатели. Но, как я понимаю, литература, если понимать её как «жизнь сознания в формах письма» — это такая штука, восприятию которой нужно учить. И здесь, по-моему, поводов для оптимизма маловато. Как вы оцениваете ситуацию?
Не очень хорошо, конечно. Про это я давным-давно думаю. В период нашей «бархатной революции», перелома от социализма к капитализму, в эпоху, которую китайцы называют «пусть расцветают сто цветов», когда в школах можно было применять любые методики, международные фонды, например Фонд Сороса, оплачивали мне и другим коллегам, интересующимся этими проблемами, поездки и лекции для учителей. И учителя, надо отметить, с жаром воспринимали и использовали всё новое.
Тогда я был чрезвычайно увлечён тем, что задача уроков литературы в школе — формирование читательской культуры, того самого читателя, которого нужно научить читать, постепенно развивая его художественное мышление, опираясь на опыт развития этой культуры на протяжении веков.


Академия Наяновой — первый в России авторский вуз. Курс обучения там состоит из 7 этапов, начиная с младших классов и заканчивая аспирантурой
В частности, для школьников 5 — 6 классов актуально понимание литературы как особого рода ремесла: дети в этом возрасте очень любят задавать вопрос «а как сделать правильно?», совпадая здесь с теми подходами, которые мы находим в классицизме с его нормативной поэтикой.
У меня был живой опыт: мы с супругой подготовили учебник для 5 и 6 классов «Мастерская стиха», который по этой линии должен был помогать развиваться преподаванию литературы. Дети учатся писать стихи — от элегических двустиший до сонетов, постигая тем самым одну из граней литературного творчества.
Появилось много учителей, которые работали по этой методике, и, насколько я знаю, продолжают работать — в Новосибирске, Самаре, где работает Ирина Коган и всё еще продолжает существовать так называемый университет Наяновой, объединяющий школу и университет.

Нашёлся издатель, который готов был взяться за распространение нашего учебника, нужен был гриф — разрешение использовать в школе.
В общем, собралась комиссия Минобразования обсуждать учебник. Так вот, треть комиссии очень радовалась, но две трети — негодовали, и председатель комиссии даже сказал, что мы порываем с лучшими традициями нашей школы.
Но это были традиции советской школы, которая, несмотря на большое количество часов литературы, с формированием читательской культуры не справлялась.
Я тогда подумал, что если собрать много учителей, то соотношение было бы примерно такое же — те, кто с восторгом слушал наши лекции в «соросовский период» — это и была та треть, которая готова работать по новой методике.
Но в целом я думаю, что стало крайне трудно учителям этим заниматься из-за бюрократизации системы образования, когда было решено, что методик преподавания не должно быть больше трёх, а ещё лучше, чтобы осталась одна, и так далее.
Свою лепту вносит и пресловутый ЕГЭ, который ориентирован не на понимание, а на накопление знаний.
Но знания можно забыть, тогда как понимание — это как умение плавать или ездить на велосипеде — появившись, оно уже не исчезнет.
Выходом, конечно, было бы наличие нескольких альтернативных путей: одни преподают так, другие иначе, и тогда бы не потерялись потенциально глубокие читатели. Ведь дети почти все, а может быть, и абсолютно все — талантливы. Моя супруга и соавтор работает с детьми-инвалидами. Там пока удаётся работать так, как хочется, устраивать «Мастерскую стиха». Какие таланты открываются в этих порой плохо передвигающихся, плохо говорящих людях! Теперь они побеждают на разного рода поэтических конкурсах.


Филолог Наталья Ласкина — о проекте «Открытая кафедра»
Какая-то доля оптимизма есть в том, что к нам в число студентов в РГГУ приходят, в большинстве своём, хорошие читатели. В Новосибирске, думаю, тоже так. Уж как они сформировались — или сама литература сформировала их, открыв потенциал, или повезло с учителем, но те, кто приходит получать филологическое образование — с ними мне работать интересно, большинство — хорошие читатели. Но их, приходящих, всё равно очень немного.
А высшая школа, то, как она сейчас устроена, даёт поводы для оптимизма?
В том, что касается содержательной стороны — да, конечно. Какие сейчас помехи? Вот оптимизация — слово, которое все уже выучили, и даже официальные люди его с иронией называют «то, что принято называть оптимизацией». На самом деле это приводит к тому, что наши преподаватели в РГГУ вынуждены читать очень много курсов. И будь ты хоть семи пядей во лбу, но когда ты отдаёшь себя не одному, двум, трём курсам и студентам, с которыми ты работаешь, а семи — восьми, получается «дезоптимизация», хочешь или не хочешь. Тем более, профессионал с опытом ещё как-то тянет, а молодым преподавателям трудно становится в такой атмосфере.
Думаю, что ростком новой системы образования являются такие проекты, как созданная в Новосибирске «Открытая кафедра», такое коммуникативное пространство, которое объединяет тех, кто готов учить, и тех, кто готов учиться — добровольно и заинтересованно.

Валерий Игоревич, в последние годы ваши научные интересы связаны с теорией повествования — нарратологией. При этом нельзя не заметить, что слово «нарратив» можно услышать даже от генерала МВД, который не моргнув глазом скажет: «Такой уж у нас нарратив». Почему дисциплина стала такой вездесущей, насколько она универсальна?
Одна причина, хотя, может быть, и не самая весомая — это мода. На разные вещи мода приходит, и на нарратив тоже, но даже если она уйдёт, без этой категории, полагаю, мы уже не обойдёмся.
Более существенно следующее: сейчас очевидно, что проблема коммуникации — это основная проблема культуры и вообще человеческой жизни. Нарратология начиналась как «грамматика рассказывания». Ролан Барт хотел описать такой набор правил, который позволял бы выявить нечто оригинальное как отклонение от этих правил. Но очень быстро открылось, что нарратив — это общение, то есть кто-то кому-то что-то рассказывает. Таким образом, адресат присутствует и так или иначе программируется рассказыванием. Конечно, повествовательное произведение можно читать втихомолку, но на самом деле это общение. Это, я считаю, главный фактор роста интереса к изучению нарратива.

Сейчас интересом к коммуникативному аспекту культуры всё охвачено, и это позитивно. Может быть, и что-то принципиально новое нарратология породит. Я вот после занятий нарратологией в конце концов заскучал по лирике, в которой со времён Гегеля ничего, кроме субъективности, не усматривают, и его определение кочует из работы в работу. Хотя это, по большому счёту, ничего не объясняет — роман «Мастер и Маргарита», например, субъективен, но это точно не лирика.
Сейчас моё убеждение состоит в том, что научное освоение области нарративных высказываний начинает проявлять то, что находится на границах, что не является нарративом.
В частности, лирическая поэзия, как я полагаю — это перформативное высказывание по природе своей, восходящее исторически к заклинаниям.
Мы много узнали о том, что такое нарративное высказывание, и это помогает самоопределяться «перформативологии» — не слишком удачное название, надеюсь, она так не будет называться. Но на самом деле для следующего скачка в осмыслении лирики важно понимание природы перформатива как особого регистра говорения.

Перформатив — речевое высказывание, эквивалентное поступку. Например, клятва, обещание, приказ
И точно так же, как изучение художественного нарратива дало результаты и историкам, и философам, и даже медицине, изучение перформатива, гораздо более древнего, чем нарратив, уверен, тоже даст свои плоды. Кстати, в Новосибирске работает замечательный лингвист Сергей Проскурин, который занимается перформативом очень глубоко и интересно.
Насколько применимы нарратологические и «перформативологические» подходы к политическому дискурсу? Что они позволяют выявить?
Полагаю, что вполне применимы. Может быть, моя беда в том, что мне лично область политического и экономического дискурса мало интересна, поэтому я ею специально не занимаюсь. Но, тем не менее, те инструменты, которые выработаны в нарратологии, дают возможность диагностики того, как устроен политический или экономический нарратив, что за ним стоит и к чему он ведёт. Иными словами, позволяет понять, частью какого именно «сюжета» является, например, то или иное политическое событие, почему о нём рассказывают так или иначе в данных условиях, чья точка зрения присутствует в этом нарративе явно, а чья — скрыто, и так далее.

С художественной литературой мы это уже умеем делать, или научаемся проводить такую диагностику, которая углубляет наше прочтение или понимание того механизма общения, который то или иное произведение даёт.
На Западе, насколько я понимаю, такие подходы уже применяются. Есть Европейское нарратологическое сообщество (ENN), которое постоянно проводит конференции, семинары, обучение. Я постоянно получаю рассылки от членов этого сообщества о том, что у них делается нового. Я не знаю ни одной науки, которая до этого дошла, которая бы создала такую сеть продуктивного научного общения. Конечно, не всё там одинаково ценно, но, тем не менее, сама эта сеть — великолепная вещь.
Я думаю, что нарратология в этом смысле свою позитивную роль может сыграть, дав образец другим научным направлениям.
На ваш взгляд, российская политическая система и российское общество в целом хотят, чтобы их диагностировали? По-моему, не очень-то они спешат «на приём»...
Политики, я думаю, ни наши, ни западные, не хотят, чтобы их диагностировали. Что касается западных, то, как я понимаю, интерес в том, что когда за президентское кресло борются несколько групп, каждая хочет диагностировать конкурентов. И мастерство диагностики развивается, позволяя охватить их всех.

Конечно, политический дискурс диагностики не хочет и поощрять её не может. Художественный — другое дело: современные писатели любят, чтобы их диагностировали и даже, может быть, помогали понять, что у них получается.
Насколько на сегодняшний день велико расхождение между российской и зарубежной гуманитарной наукой?
Я думаю, что не велико, хотя ситуация неоднозначна. Я не принадлежу к числу ультра-патриотов и никогда не принадлежал, но в нашей гуманитарной науке есть вещи, в которых мы опережаем зарубежных коллег. Есть умные люди, в совершенстве владеющие русским языком, которые это осознают, хотя их и мало на Западе. В нарратологии это профессор Гамбургского университета Вольф Шмид. Он постоянно говорит, что на Западе не понимают, какая гуманитаристика, филология, нарратология есть в России, какие у них корни. Он даже свой учебник «Нарратология» написал по-русски и потом сам перевёл на немецкий, он много занимается продвижением российских нарратологических наработок на Запад.
Есть ещё более поразительная вещь. На западе нет исторической поэтики в нашем понимании, сформированном трудами Веселовского и других учёных. Нам это очень непривычно, поскольку мы считаем, что литературоведения без исторической поэтики не бывает. Мой коллега Игорь Шайтанов, который недавно издал Веселовского так, как Веселовский сам хотел, рассказывал, что когда он в Англии и США делал об этом доклады, это вызывало исключительный интерес.

Немцы оказались практичнее. Два года назад они выпустили сборник, где я был одним из соредакторов, там статьи есть и наши, и немецкие: «Школа исторической поэтики в России». То есть в немецкую культурную сферу вводится этот особый язык.
Что касается нарратологии, то она на Западе она развивается как чисто теоретическая дисциплина. Когда я говорю, что нужна историческая нарратология, тот же Вольф Шмид поддерживает этот тезис, он начал писать книгу о том, как в литературе с течением времени меняется структура событий — вполне исторический аспект. Но это едва ли не единственный пример, и то под влиянием погружения в русскую науку.
И не исключаю, что как открытие русской формальной школы, а потом Бахтина на Западе в своё время вызвало бум теоретических исследований, так и русская историческая поэтика может стать катализатором для нового витка развития гуманитарной науки во всём мире.

Коль скоро коммуникация, как было сказано, — основа жизни и культуры, а нынешние времена принято считать с технической, по крайней мере, стороны, сверхкоммуникационными, нет ли у вас ощущения, что коммуникация подменяется каким-то суррогатом?
Есть, конечно. Сейчас, насколько я понимаю, сложилась очень большая диспропорция между техническими возможностями коммуникации и культурой коммуникации. Поэтому и нарратология, как мне кажется, актуальна не столько для диагностики политического дискурса, хотя, наверное, это полезно, а для развития «коммуникатологии». Мы говорили, что было бы хорошо, если бы литературоведение помогало развитию культуры художественного восприятия. Было бы так же хорошо, если бы «коммуникатология» помогала развитию коммуникативной культуры — культуры общения. Действительно, это то, что нужно современному человеку.
Вот в школе я бы такой предмет бы ввёл — не знаю, как его назвать, на котором можно было бы учить активному и продуктивному участию в коммуникации. Здесь есть много о чём подумать и многому практически научиться.