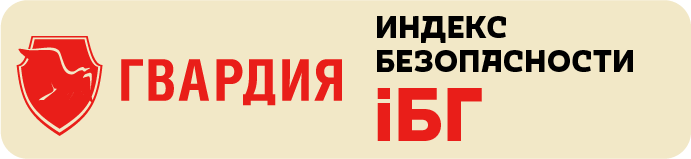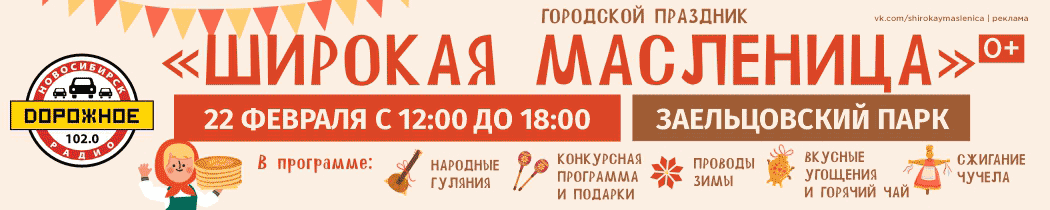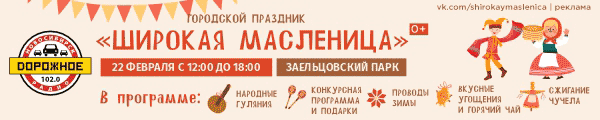Театр в Новосибирске всегда был «важнейшим из искусств», а в последние годы — особенно. Один из тех, кто определяет лицо современной новосибирской сцены — режиссёр Тимофей Кулябин. Широкая публика знает его имя лишь по «Тангейзеру» и судебному разбирательству, театралы — и по многим другим работам: например, «Онегину» и «Трём сёстрам». Редактор Сиб.фм поговорил с Тимофеем Кулябиным о театре и театральной «мафии», современном искусстве и профессии режиссёра.
Ты родился в театральной семье. Это значит, что выбор профессии был предопределён заранее?
Наверное, во многом предопределён. Родители всё время работали, и так получалось, что в театре я проводил большую часть времени. Даже когда театр на месяц уезжал на гастроли, меня брали с собой — нельзя было оставить бабушке с дедушкой. Так что увлечение театром — это естественный процесс. Неестественно, если бы мне это было неинтересно.


А какое у тебя самое раннее именно театральное впечатление? Может, просто сама атмосфера?.. Занавес, люстра, запах кулис? В детстве такие вещи поражают.
Ну, вряд ли люстры или кулисы.
Я в детстве часто сидел на репетициях, потом видел готовый результат, — и магия в этом, конечно, присутствовала.
А в сознательном возрасте можешь вспомнить какой-то спектакль, который на тебя так подействовал, что остался в памяти до сих пор?
Когда была Театральная олимпиада 2001 года, отец меня отправил в Москву — просто посмотреть театр. Чего только там не было! Я увидел тогда и «Чайку» Люка Бонди, и Штайна, и Терзопулоса, и прекрасные карнавалы в саду «Эрмитаж», и спектакли уличных театров. Не могу сказать, что какой-то один спектакль врезался в память на всю жизнь, но встреча с театром такого уровня на меня произвела серьёзное впечатление.


А когда ты понял, что будешь именно режиссёром? То есть, момент этого определения? Вот я точно помню возраст, когда понял, что буду писать стихи: просто щёлкнуло — и всё.
В тринадцать лет.
Это, вообще-то, очень рано...
Я понимал, что хочу работать в театре, но не представлял себя в актёрском амплуа.
Я вообще себя некомфортно ощущаю на сцене, рисовать тоже не умею, но мне было интересно, как устроен спектакль изнутри, как его репетируют.
Поэтому режиссура оказалась довольно очевидным выбором.
Какие черты характера необходимы в профессии режиссёра?
Если оставить в стороне такие сложные вещи, как талант и призвание, а говорить о чём-то более прозаическом, то в первую очередь терпение. Колоссальное терпение, чтобы добиться результата. Потому что ничего никогда быстро не получается, сталкиваются интересы, вмешивается психология, внешние обстоятельства — это всё мешает осуществлению замысла.
Безусловно, необходимы организаторские способности. Режиссёр должен быть и администратором, и продюсером,
и просто иметь силу воли.

Тимофей Кулябин получил получил новосибирскую премию «Человек года» в 2010 году
И, как мне кажется, важно быть грамотным психологом. Надо чувствовать правильный момент в работе: когда можно настаивать на своём, а когда нужно отступить и взять паузу, когда можно подождать, когда нужно, наоборот, форсировать. Вот это, наверное, главное — терпение, умение быть психологически устойчивым, оставаясь при этом чутким.
Кем должен быть режиссёр — тираном, добрым другом, манипулятором?
Зависит от ситуации. Я стараюсь выстраивать взаимоотношения с артистами по-разному, исходя из психологического аппарата каждого из них. Важно, чтобы артист чувствовал и доверие, и свободу.
К тому же, практически не бывает, чтобы я одинаково репетировал два спектакля — они всегда разные. Я стараюсь, чтобы артистам было комфортно со мной работать. Не всегда это получается радостно и легко: у процесса создания спектакля есть собственная драматургия, не имеющая, кстати, отношения к самому спектаклю.
Но общая задача всегда — чтобы артисты чувствовали себя субъектами творческого процесса, а не исполнителями чужой воли.
Когда ты берёшься за спектакль, как он у тебя в голове складывается, придумывается? Есть какой-то образ, представление, к чему ты идёшь?
С точки зрения профессиональной, я не имею права начинать репетиции, если не представляю, каким будет спектакль. Особенно если это работа в оперном театре. Я полностью сдаю проект за год до начала репетиций — к этому моменту замысел уже готов. Другое дело, что многое всё равно зависит от самого рабочего процесса. Иногда бывает, что внутри репетиций многое меняется. Но всё-таки, приходя на репетицию, я должен знать, что делаю.


Про большие формы, про оперу, понятно, что невозможно по-другому. Но вот, допустим, возникает впечатление, что «Онегин» твой сделан...
...по ходу.
Да, по ходу, он такой... импровизационный. Этюдная лёгкость в нём осталась.
Это я могу позволить себе только в «Красном факеле», потому что здесь у меня есть некий кредит доверия. Так мы сделали несколько спектаклей — «Без слов», «Онегина» и во многом «Трёх сестёр». К началу репетиций я, скажем так, не формулировал результат и не давал гарантию этого результата. Ни театру, ни себе.
Ключевым был сам процесс встречи с материалом, встречи с языком. Но это вообще-то режиссёрское счастье — мало у кого есть такая возможность.
Сейчас мы таким же образом репетируем спектакль «Дети солнца». Я не загадываю финальную точку, а намечаю, что мне интересно сделать — с этим материалом, с этими артистами, с этим типом драматургии. Сейчас это важнее.
В «Красном факеле» я могу дольше работать над одним спектаклем. Время — это вообще самая главная ценность, и в другом театре всегда будут временные ограничения. Приглашение режиссёра — это расходы: жильё, перелёт и так далее. Чем дольше длится постановка, тем дороже это обходится театру. Есть стандартные нормы по выпуску спектакля в разных форматах: малая, большая сцена, опера. Естественно, я в них укладываюсь. Но здесь я не гость. Это редкое счастливое исключение, и я им очень дорожу.


Недоброжелатели скажут: ну естественно, тут же семейный театр.
Наверное, так может выглядеть со стороны. Но я несколько лет работал в этом театре как любой другой приглашённый режиссёр, соблюдая все сроки и учитывая все производственные необходимости — например, связанные с занятостью артистов. Я — единственный режиссёр, работающий с этой труппой на протяжении восьми лет и знающий её возможности от начала и до конца. Я формулирую задачи не только для себя, но и «на вырост» для артистов. Это очень выгодно театру, труппе — иметь возможность подробной работы, которая не сводится к постоянному производству новых спектаклей и выполнению планов.
Приглашённый режиссёр всегда использует в артисте только то, что тот уже умеет.
У него нет времени заниматься воспитанием труппы, развитием.

Тимофей Кулябин учился на режиссёрском курсе Олега Кудряшова в РАТИ-ГИТИС
Я сам поступаю точно так же, когда работаю в других театрах. Как приглашённого режиссёра меня интересует, что артист умеет, а не чему мы можем вместе научиться.
Ещё не так давно режиссура была профессией возрастной, говорили, что до сорока лет в ней делать нечего, нужен опыт, знание людей. И тут появилось целое поколение мальчишек. Это нормально?
Мне кажется, это абсолютно естественно. Действительно, считалось, что режиссёр не может быть молодым. Я знаю эти правила. Я и моя однокурсница Полина Стружкова были первыми в истории ГИТИСа, поступившими на режиссёрский факультет сразу после школы, нам было по 16 лет. У меня были однокурсники с опытом работы в театрах и даже работавшие режиссёрами. И я видел, как мешал им этот опыт, как мучительно им приходилось бороться со своими штампами.
А сейчас, в принципе, миром управляют люди молодые. Кругом полно миллионеров-миллиардеров, которым и 25 нет.
Так неужели мы должны по-прежнему считать,
что поставить спектакль сложнее,
чем придумать Facebook, Google или Instagram?
Мир очень сильно изменился, начиная, наверное, с миллениума. Молодым гораздо проще — они быстрее встраиваются в новую, меняющуюся парадигму. Мне кажется, что у очень молодых людей, которые приходят в творческие профессии, достаточно интеллектуального ресурса, проницательности. Это органичный процесс, а не плод какой-то компанейщины — типа, мы сейчас будем брать только молодых. Можно их и не брать — они сами появятся на горизонте, заявят о себе, даже, условно говоря, без диплома.


Тем не менее в театральной среде, особенно в провинции, ходят настоящие теории заговоров: мафия Олега Лоевского, все эти лаборатории. Либералы. Гомосексуалисты. Евреи. И все поддерживают только своих. В театре действительно есть эти силы влияния?
Нет, конечно. Есть течения — эстетические, тематические. Вот, например, есть Театр.doс, он работает в пространстве нетеатральном — не в зале, не в коробке сцены. Есть театр больших залов, большой формы. Есть репертуарный театр, а есть — проектный. Внутри театрального сообщества существуют микросообщества по интересам.
Но лоббировать что-то довольно бессмысленно по одной простой причине: по блату на сцене не сыграешь и не поставишь.

Зачем студенты из Таджикистана приезжают в Новосибирск учиться на режиссёров
Шанс получить можно, но продукт всё равно придётся сделать. Ключевую роль играет содержательность, оригинальность, честность, самоотдача. Просто так никто в искусстве не становится кем-то.
Ну, как раз вот про эту содержательность и самоотдачу. Я знаю историю с «Онегиным», который ты сначала готовил как достаточно традиционный спектакль. Сделанное тебя не устраивало, и накануне премьеры ты отказался от почти готовой работы. Это был для тебя какой-то момент перелома?
Да, «Онегин» был для меня очень важен, в нём много личных мотивов. Мне казалось, я должен быть максимально правдив, но у меня не получалось.
Меня не устраивало то, что я делаю. Тогда я сказал себе, что не могу пойти на компромисс. И действительно остановил репетиции больше
чем на год.
Говорят, ты тогда заболел серьёзно.
2 «Золотые Маски» получил Тимофей Кулябин — за «Онегина» и «Три сестры»
Да, заболел. И потом ещё долго не мог вернуться к этому материалу, мне казалось, что я не выберусь из него. Но всё-таки возобновил репетиции, и они были очень тяжёлыми для меня. Я готовил, наверное, самый важный в жизни спектакль, и мне был абсолютно безразличен его успех. Хотя ничего плохого в успехе нет. Просто в работе над «Онегиным» я позволил себе не думать об успешности. Процесс работы над материалом был важнее результата. И, в общем, для меня стала неожиданностью вся последующая жизнь спектакля со всеми гастролями, призами и «Золотыми Масками».


Вот ты говоришь, что это личный спектакль. Как я понимаю, это был для тебя момент терапевтический. А вообще, этот момент терапии в спектаклях важен? Ты проговариваешь какие-то вещи для себя? Травмы-не травмы, но что-то подобное?
В нескольких спектаклях есть очень личное высказывание, вне зависимости от драматургии, пьесы и контекста. Их на самом деле не так много. Это «Онегин» и, пожалуй, «Тангейзер».
«KILL»?

Для спектакля «Три сестры» актёры специально выучили язык жестов, за всё время в спектакле не произносится ни одного слова
Скорее «Гедда Габлер». «KILL», «Процесс», «Три сестры», «Иванов» в Театре Наций — не могу сказать, что в них я себя ассоциирую с героями напрямую, что рассказываю через них о себе. Там я скорее наблюдатель. Ну, это и невозможно делать каждый раз. Это бывает редко, нужны какие-то жизненные обстоятельства, которые провоцируют тебя на такую самоидентификацию.
Но вот мне «Тангейзер» показался как раз очень личной историей. И тут для меня сошлись все концы — и отношения сына с матерью, которая любит его всякого, и непростое детство героя читается... Когда-то я разговаривал с Владимиром Сорокиным, после спектакля в «Красном факеле»...
«Достоевский-trip».
Да, именно. Там вся пьеса построена на детских монологах, воспоминаниях. А что, говорю, у вас, Владимир Георгиевич, детство было травматичное или счастливое? Он так откинулся:
«Можно подумать, у кого-то счастливое!»
А у тебя было счастливое детство?
Я знаю, что этот текст будут читать родители... (смеётся) Скажем так, мне не очень интересно моё детство. Самое важное, содержательное и счастливое время было всё-таки в ГИТИСе. Вот этот период я гораздо лучше помню. А детство? Не вижу в нём ничего сверхъестественного.
Я был интровертом, домоседом и много читал. Никаких глобальных потрясений со мной не происходило, но и все сложности,
которые бывают в детстве, — тоже были.
Я редко возвращаюсь к детству.

С 2007 года Тимофей Кулябин работает в театре «Красный факел» штатным режиссёром
А что становится материалом для спектаклей? Твои наблюдения за миром? У тебя же куча подсмотренных персонажей, взятых буквально из жизни, живые интонации сегодняшнего дня. Ты специально это подсматриваешь? Отмечаешь как-то, или... Как это придумывается? Вот писатели часто специально записывают: «О, облако, похожее на рояль!»
Нет, к сожалению, у меня такого нет. Я могу, разумеется, увидеть на улице интересного человека и понаблюдать за ним. Но, если быть откровенным, я вообще не очень интересуюсь...
...людьми?
Да. В том смысле, что я не ищу вдохновения, подглядывая за ними. Другое дело, когда у меня есть конкретный материал и конкретные герои. Тут я начинаю вместе с актёрами очень внимательно изучать психотипы, модели поведения, возможные действия, реакции. Но это не бытовое подглядывание «про запас», а профессиональное целенаправленное изучение.


У меня есть, мне кажется, проницательность, что ли, или интуиция: я хорошо угадываю, как себя поведёт определённый типаж в каких-то обстоятельствах.
У меня в спектакле «Электра» есть эпизод, когда главный герой, Орест, убивает мать, Клитемнестру. Я сделал такую сцену: Клитемнестра приходит с какими-то подгузниками, с детским питанием — Электра родила внучку. И когда Орест её убивает (вся кровавая сцена происходит за кулисами), он выходит весь в крови, садится и начинает есть это детское пюре, очень жадно, прямо из баночки. А как человек, переживший такой стресс, будет себя вести?
Судебный криминалист, который однажды попал на этот спектакль, сказал мне, что его поразила точность этой реакции — но я её не подсмотрел, а как бы вычислил.
Всегда очень ценно и приятно бывает узнать, что вычислил правильно. Слабослышащие девушки-консультанты в первый раз пришли на репетицию спектакля «Три сестры» и увидели мизансцену, когда герои кладут головы на стол и слушают юлу...
Гениально сделано!
Я придумывал, а как же сделать это достоверно: люди, которые не слышат, тем не менее слушают эту юлу, исходящую от неё вибрацию. Решил, что будет правильно, если они лежат, а юла над ними. И оказалось, угадал: консультанты сказали, что так бы это и было.



Ромео Кастеллуччи учился оформительскому искусству и живописи в Университете изящных искусств в Болонье
Ты всё время делаешь заходы на территорию современного искусства. Инсталляции перед спектаклями, видеоинсталляции. Скажи, театр сам может быть актуальным искусством?
Современный театр сейчас уже так плотно спаян с ним... Допустим, Фабр или Кастеллуччи — это люди, пришедшие с территории художника. С территории актуального, современного, не перформативного, а именно инсталляционного искусства. Этот процесс неизбежен, он уже вовсю идёт.
Сейчас очень много разговоров о том, что понимать под драматическим театром. Можно, наверное, сказать, что это такой театр, в котором существуют взаимоотношения артиста и роли. Это и есть предмет драматического театра, когда один человек играет другого.
Но сегодня существует и театр, где не нужен артист.
Или театр, где нужен не-артист.
Или театр, где не нужно ничего.
Допустим, такому режиссёру, как Хайнер Геббельс, вообще уже давно ничего не нужно. Всё само по себе является театром.
Это естественное развитие театрального языка. Но я не считаю, что влияние современного искусства на театр убивает интерес к актёру. Мне кажется, что интерес к драматической форме в её, скажем так, чистом виде — неубиваем. Другое дело, что этот интерес ищет новой формы взаимоотношений. Вот, допустим, следующий мой спектакль будет строиться во многом по законам акции или инсталляции. Это будет премьера в Резиденцтеатре в Мюнхене, «Колымские рассказы» Варлама Шаламова.


И эстетика, и приём будут как раз взяты из области перформативных практик, где некое физическое действие или примитивное движение становится предметом исследования. Я заимствую способ трансляции информации или эмоции у акционизма. Ну, я не могу учить немецкого артиста, как ему играть узника ГУЛАГа: ни я, ни он не представляем, что это такое.
Психологический разбор, психологическое вживание в роль невозможно. Это будет враньё
и, как мне кажется, издевательство
над самим материалом.
А вот над «Детьми солнца», допустим, я работаю сейчас как над абсолютно психологической пьесой, как я это делал с «Ивановым» или с «Тремя сёстрами». Я отношусь ко всему очень прикладным образом. Любую тенденцию в театре, как мне кажется, нужно внимательно изучить и понять, к чему она применима и какую потребность театра удовлетворяет. Если театру нужна практика перформативных искусств — бессмысленно её ругать.



В 2017 году состоялась первая постановка Тимофея Кулябина в европейском театре Opernhaus Wuppertal с оперой «Rigoletto»
Ты всё больше работаешь на Западе. Может ли, допустим, наступить тот момент, когда у тебя все интересы переместятся туда? И ты в итоге оставишь должность здесь и переберёшься за границу?
Это очень простой вопрос. Если под «здесь» мы имеем в виду «Красный факел», то я хочу продолжать работать здесь — все мои планы связаны с ним. По большому счёту, меня не интересуют другие площадки в стране, другие труппы. Единственное исключение — я регулярно работаю в Театре Наций. Но Театр Наций — это проектный театр. Там я не привязан к конкретной труппе, там могут ставить и Лепаж, и Волкострелов, и Кулябин — совершенно разные режиссёры, которые внутри обычного репертуарного московского театра никогда не встретятся.
За границей я, безусловно, в большей безопасности от, скажем так, неадекватных трактовок того, что я делаю.
В последнее время мы видим, что возникают очень странные формулировки и тенденции, которые обсуждаются на министерском уровне: а давайте обозначим границы интерпретации, поймём, что можно, а что нельзя, а почему на государственные деньги ставится вот это, а давайте считать патриотизмом вот то.
Это настолько чудовищно, архаично, что я не готов об этом всерьёз размышлять. Это как ночной кошмар. Но я не могу делать вид, что этого нет.
Если такая тенденция будет и дальше набирать обороты, то я бы не хотел как режиссёр вписываться в этот контекст столетней давности, он мне неинтересен. В этом смысле я человек эгоистичный — и не могу тратить жизнь на споры с условным чиновником о том, что можно в театре, а что нельзя. Я лучше потрачу её на то, чтобы рассказать немцам, кто такой Шаламов. В этом будет больше смысла — и патриотизма, кстати, тоже. Но у меня нет специального желания работать только за границей. У меня есть очень глубокая любовь к русской психологической школе, к русскому артисту — вообще к русскому театру как к явлению, как к огромной культуре, как к одной из ключевых традиций для европейского и мирового театра. У меня есть и своя манера, и своё представление о том, каким может быть театр. И я бы не хотел становиться среднестатистическим режиссёром — ни в Европе, ни в России.