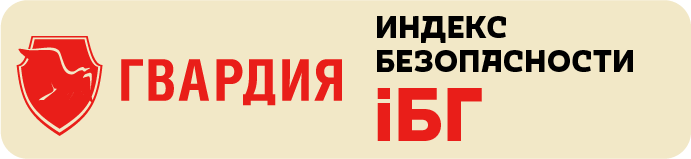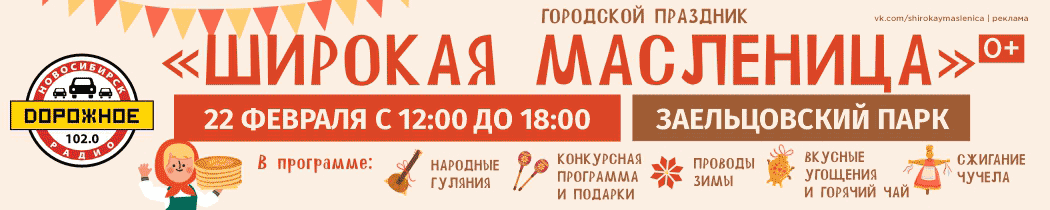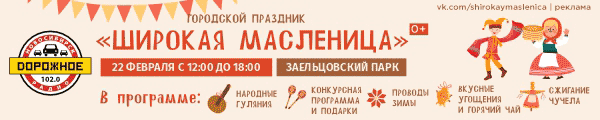На V Международной конференции Тотального диктанта лингвист Светлана Бурлак прочла научно-популярную лекцию «Откуда в языке слова берутся и как мы об этом узнаём». Светлана — специалист по тохарским языкам, профессор Российской академии наук, ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН и автор книги «Происхождение языка: факты, исследования, гипотезы». Корреспондент Сиб.фм поговорил с ней о непрерывности эволюции, интеллектуальных играх, рыбьих костях и научных открытиях.
Когда я ем, я нем
В одном из интервью в 2012 году вы говорили, что, возможно, стезя учёного в медиа вас не минует: «Должен же кто-то объяснять, как всё на самом деле». Так и получилось, судя по всему. Нравится ли вам эта стезя?
Как показала Жанна Ильинична Резникова, замечательный новосибирский этолог, для того, кто живёт в сообществе (и это верно не только для людей!), счастье — это совпадение трёх специализаций: социальной, когнитивной и поведенческой. Или, в переводе с научного языка на обыденный, совпадение того, что нужно твоему сообществу, того, что на что у тебя хватает ума, и того, чем тебе просто нравится заниматься.

Мне в данном случае очень повезло: я люблю рассказывать, люблю объяснять, так, чтобы люди понимали, и судя по тому, что меня приглашают выступать, у меня это неплохо получается и людям это нравится.
Единственный маленький минус: за такое денег не платят, поэтому невозможно развлекаться всё время. Надо всё-таки иногда заниматься работой.
Новые открытия, которые появляются в разных областях науки, дополняют вашу гипотезу о происхождении языка? Я читала, вы обрадовались, когда учёные доказали, что неандертальцы и сапиенсы скрещивались.
Да, всё очень красиво складывается — и чем дальше, тем красивее. В 2011 году, уже после выхода моей книжки, один западный исследователь, Барт де Бур, опубликовал статью про горловые мешки и показал, что они нивелируют эффекты артикуляции. У тех, у кого они есть, совершено неважно, как расположится язык во рту: горловые мешки, обладающие собственной системой резонансов и антирезонансов, «выправят» звук, куда надо. Для обезьян эта задача весьма актуальна, поскольку они могут есть и издавать звуки практически одновременно (у них гортань расположена высоко, и они, в отличие от нас, не рискуют при этом подавиться).

А человеку всё равно за едой болтать не стоит: низко расположенная гортань создаёт нешуточный риск, что пища попадёт в дыхательные пути, — так что можно разнообразить звук, меняя положение языка во рту. В результате появляется возможность различать много-много слов (если хотя бы один звук не совпал — это уже разные слова!) и давать имена предметам и явлениям, действиям и свойствам — всем, какие сможем заметить (а то даже и придумать).
Так что нам горловые мешки здорово осложнили бы жизнь. Но у нас их и нет.
1907 — год первой находки гейдельбергского человека. Недалеко от города Хайдельберг (Гейдельберг), в честь которого его и назвали
И не было, как выясняется, даже у нашего общего с неандертальцами предка — гейдельбергского человека.
И вот это уже совсем интересно, потому что у гейдельбергского человека, как показали исследования Игнасио Мартинеса и его коллег (обнаруживших слуховые косточки нескольких экземпляров Homo heidelbergensis в Сима де лос Уэсос), кривая слуха приближалась к нашей нынешней — с дополнительной областью лучшей слышимости как раз в районе тех частот, где звуки различаются в зависимости от артикуляции. А ещё у гейдельбергского человека был достаточно широкий позвоночный канал, дававший возможность тонко управлять диафрагмой. Это очень важно для речи, поскольку мы не вопим сразу весь сигнал, а подаём звук порциями — слогами. И даже в рамках слога диафрагма делает так называемые парадоксальные движения, чтобы разные звуки получали сопоставимую друг с другом громкость.
Тут я чувствую, что начинается ликбез: Светлана говорит чётко и медленно, произносит слова так, что даже на лекции можно было бы успевать записывать каждое слово без ошибок.

Что позволяют эти парадоксальные движения диафрагмы?
Вот смотрите: есть звук [а] — он громкий, потому что весь выдох идёт в воздух и достигает ваших ушей. А если я скажу [у], то у меня часть звука будет просто глушиться щеками; если [т], то там вообще почти никакого звучания нет. И для того, чтобы в слоге «та» мы слышали не только [а], но и [т], нам нужны эти самые парадоксальные движения диафрагмы: если звуки окажутся несопоставимы по громкости, то тихого [т] рядом с громким [а] мы просто не услышим. А если диафрагма работает, то появляется возможность строить слоги из разных звуков и различать много-много слов.


25 ноября 1946 года был подписан в печать первый номер «Вестника Московского университета»
Таким образом, у гейдельбергского человека, получается, был целый комплекс приспособлений для членораздельной звучащей речи: и отсутствие горловых мешков, и слух, настроенный на нужные частоты, и широкий позвоночный канал для тонкого управления диафрагмой. А если отдельные приспособления ещё, может быть, и могут появиться случайно, то комплексы приспособлений по случайности уж совершенно точно не появляются. Так что, видимо, наши общие с неандертальцем предки — гейдельбергские люди — вполне могли говорить членораздельно. Я про это написала как раз статью в «Вестнике МГУ» и в диссертацию вставила.
А через год из этих же самых кусочков в точности этот же самый пазл сложили два западных исследователя — Дэн Дэдиу и Стивен Левинсон. Сообщение об их открытии прошло по всем новостным лентам: мол, какое гениальное открытие, оказывается, неандертальцы умели говорить, и гейдельбергенсисы тоже! Я даже несколько обиделась: я ведь написала об этом годом раньше, почему они не ссылаются на меня? Для чего я тогда, спрашивается, писала к своей статье английское резюме?!
Но, с другой стороны, приятно, когда разные исследователи независимо приходят к одним и тем же выводам — обычно это значит, что в этих выводах что-то есть.
Добавите эту ссылку в переиздание вашей книги «Происхождение языка: Факты, исследования, гипотезы» и ещё увеличите большой библиографический список, который вы использовали, чтобы разобраться в теме?
Конечно, добавлю ссылку, и не только на эту, но и на другие работы, которые появились после выхода моей книги — эта область сейчас очень бурно развивается, важные открытия появляются буквально одно за другим: то какой-нибудь новый вид древних людей откопали, то в каком-нибудь языке открыли что-то удивительное, то у обезьян что-нибудь совершенно потрясающее наблюдали, то какие-нибудь психолингвистические или нейролингвистические исследования провели. Естественно, для нового издания книги я учла всё, что смогла. Наверняка ещё что-то осталось неучтённым, но я старалась. И библиографический список, разумеется, стал ещё длиннее.

Тем не менее ваша гипотеза о происхождении языка остаётся прежней?
Да, пока что я не вижу никаких данных, которые в неё бы не укладывались. И это при том, что я всегда, когда рассказываю о своей гипотезе в научных кругах (и среди биологов разных специальностей, и среди психологов, и среди лингвистов), в конце своего выступления обязательно говорю: моя гипотеза — это всего лишь гипотеза, найдите, пожалуйста, факты, которые бы её разрушили, которые бы ей противоречили, — но пока никто не нашёл.
На кону конь
Вы следите за всеми научными открытиями?
Обычно кто-нибудь из знакомых присылает мне ссылку или я сама нахожу новость на каком-нибудь хорошем популяризаторском сайте, где дают ссылки на оригинальные исследования. А дальше уже иду по ссылке к первоисточнику, читаю оригинал, понимаю, что́ из этого мне может быть полезно, и использую.

Что из последних открытий вас удивило?
Удивило — в смысле оказалось неожиданным (Светлана как истинный лингвист уточняет смысл, лексическое значение слова)? Пожалуй, то, что капуцины — южно-американские широконосые обезьяны, весьма далёкая от нас ветвь приматов — раскалывают камни.
Самое замечательное, что они это делают не для того, чтобы использовать их как орудия, а для того, чтобы полизать краешек.

Первым методом изготовления орудий из камня стало разбивание, по-видимому, применявшееся уже австралопитеками. Надо было просто бросить один камень на другой, а потом среди осколков выбрать подходящий, — достаточно крупный для удержания в руке и обладающий острой гранью
И теперь, когда смотришь на древнейшие орудия гоминид, которые примерно так же раскалывали камни, думаешь: то ли его раскололи, чтобы что-то порезать, то ли для того, чтобы краешек полизать. Но, по счастью, среди археологов есть специалисты по трасологии — они умеют определять, что делали тем или иным орудием. Поэтому про многие орудия можно точно сказать, для чего их использовали. Но вот, оказывается, можно раскалывать камни не для того, чтобы сделать какой-нибудь чоппер, а просто чтобы краешек полизать.
Это огорчило вас?
Нет, конечно! Как же новое открытие может огорчать? А здесь ещё и возможное заполнение лакуны. Дело в том, что всякий раз, когда мы видим качественный скачок в ходе эволюции, возникают вопросы: как же так, не было ничего похожего и тут — раз! — появляется что-то совершенно новое и невиданное. А тут оказывается, что очень даже бывает, что склонность раскалывать камни, возможно, появилась у наших предков не на пустом месте. И это хорошо, потому что тогда эволюция выглядит не каким-то странными скачками, а действительно непрерывным процессом.


До 30 подвидов объединяет род обезьян капуцинов. Также их называют широконосыми обезьянами — из-за широкой перегородки между ноздрями
Современные шимпанзе не делают каменных орудий. Правда, они могут колоть камнями орехи. А если камень, который используется в этом процессе как наковальня, расколется, то этот осколок можно использовать как молоток. Но систематически что-то раскалывать — это другое, современные шимпанзе так не делают. А такое поведение, как у капуцинов, открывает дорогу к тому, чтобы начать раскалывать камни систематически: почему бы не отбить от камня кусочек, если нравится?
Получается, можно выстроить такую цепочку: сначала они раскалывали камни, чтобы полизать краешек, а потом стали это делать для создания орудий?
Посмотрим. Не факт, что наши предки делали так же, как капуцины, но, по крайней мере, это возможная модель. Когда мы не знали, что такое в принципе возможно, то и не искали этого. А сейчас можно задуматься. Может быть, наши предки тоже так делали, а может, и нет.

Эволюция — медленный, но всё-таки процесс. Последовательная, а не резкая смена состояний в развитии?
Да, эволюция — это всегда постепенный переход количественных изменений в качественные. Каждый раз за один шаг меняется по чуть-чуть, а потом смотришь — всё стало совсем не такое, как раньше. В языке то же самое. Например, в XII веке наши предки, носители древнерусского языка, стали ослаблять гласные «ъ» и «ь» (так называемые редуцированные гласные) на конце слова и кое-где в середине.
Гласные эти стали произноситься всё более небрежно и тихо, а иногда и совсем пропадали — но никто этого особенно не замечал: все же привыкли с детства, что они там есть.
А в XIII веке уже стало не так, потому что кончились те люди, которые произносили их хотя бы когда-нибудь. В результате внезапно оказалось, что в русском языке имеется парность согласных по твёрдости-мягкости: пока были редуцированные гласные, любой твёрдый или мягкий согласный был таким не по своей природе, а потому, что рядом с соответствующим гласным постоял. Так же, как в английском, если мы посмотрим на слово tea, то согласный там будет смягчённым, но не потому, что он противопоставлен твёрдому согласному, а потому что постоял с гласным [ī].
В древнерусском языке было так же. А когда редуцированные ослабились настолько, что выпали совсем, обнаружилось большое количество согласных, у которых осталась мягкость, — потому что все привыкли их так произносить, а гласного, который бы был причиной этой мягкости, после них уже не было. Получилось, что именно согласные стали различать такие слова, как кон и конь. Значит, согласные стали противопоставляться по твёрдости-мягкости. Вот так количественное изменение (всё более тихое и невнятное произнесение редуцированных гласных во всё большем количестве случаев) привело к изменению качественному — полной перестройке системы согласных.

Лингвистическая мода

Фердинанд де Соссюр — швейцарский лингвист, заложивший основы семиологии и структурной лингвистики, стоявший у истоков Женевской лингвистической школы
Вы говорили, что ваша гипотеза нравится вам тем, что согласно ей никто из гоминид не хочет ничего глобального, все хотят сиюминутного коммуникативного успеха. А какие исследования, на ваш взгляд, перспективны в настоящее время?
Я не умею загадывать на перспективу — мне кажется, перспективы в сильной степени определяются модой и личностью отдельных исследователей. Например, если бы не пришёл Фердинанд де Соссюр и не увлёк всех перспективой отделения синхронии от диахронии, то не было бы всей той замечательно развитой синхронной лингвистики, которая сейчас есть. Изучали бы этимологию отдельного слова, происхождение того или иного окончания или суффикса. А Соссюр предложил изучать, как язык устроен сейчас, выявляя его систему, которая позволяет ему функционировать среди людей, не ведающих, как говорили их предки тысячу лет назад.

В результате появилось множество описаний самых разных языков, появились теории, описывающие всё это разнообразие, так что сейчас стало уже можно строить сравнительно-историческое языкознание как эволюцию от системы к системе. И тогда оказывается, что какое-нибудь окончание имеет такой вид не потому, что оно преобразовалось по фонетическим законам (или даже вообще по исключениям из них), а потому, что помимо фонетических законов вступили в действие требования стройности морфологической системы или процессы грамматикализации.
Для этимологии всякие суффиксы и окончания часто создают проблемы: с одной стороны, на них действуют те же фонетические законы, что и на корни, а с другой — требования морфологической системы. Морфологическая система языка в разные моменты времени разная, соответственно и требования различаются. Происходят изменения, которые могут приводить в том числе к тому, что мы будем видеть нарушение регулярности звуковых соответствий. На самом деле это не нарушения: просто бывают изменения не только с фонетическими, но и с морфологическими условиями. Если бы не пришёл Соссюр, мы бы до этого не догадались.

Если бы не пришёл Ноам Хомский, никто не догадался бы поставить во главу угла синтаксис. Не пришёл бы Владислав Маркович Иллич-Свитыч, никому бы в голову не пришло проводить дальнее сравнение, устанавливать родство между языками, чей общий предок распался порядка 14 тысяч лет назад — не на уровне предположений, отдельных похожих слов, а на уровне систематического сопоставления, с регулярными фонетическими соответствиями.
Придёт кто-нибудь ещё — и мода повернётся в каком-нибудь непредсказуемом направлении. Последняя мода — это нейролингвистика.
Когда кто-то замечает какое-нибудь лингвистическое явление, приходят нейролингвисты, придумывают эксперимент, укладывают испытуемых в томограф и смотрят, как работает мозг, когда этот эффект проявляется, и как — когда не проявляется. Посмотреть на эту разницу активности бывает очень интересно.
Береста и рыбьи кости
Вы не боитесь писать о том, о чём никто не писал. Если вспомнить историю о том, как два великих лингвиста (Владимир Эммануилович Орёл и Сергей Анатольевич Старостин) сказали, что они пытались расписать тохарскую историческую фонетику, но ничего не вышло, попробуйте-ка вы. А вы, студентка третьего курса, взялись за это и сделали. Значит, они тогда уже увидели, что вы не боитесь тяжёлых задач?
Что значит тяжёлых?
Я просто наивно считаю, что учёный — это тот,
кто делает открытия.

Сергей Анатольевич Старостин — специалист в области компаративистики, востоковедения, кавказоведения и индоевропеистики. Почётный доктор Лейденского университета (Нидерланды)
Мне нравится делать открытия. К сожалению, у меня их не так много, но всё-таки есть. А это сейчас не очень модный принцип: при нынешней системе наукометрии выгодно писать «публикабельные» статьи, можно даже полную ерунду написать — а потом написать ещё одну статью, доказывающую, что в первой была полная ерунда, гипотеза не подтвердилась. Но я считаю, что писать статью, не сделав открытия, — нехорошо. Хотя приходится иногда — отчитываться же чем-то надо, научно-популярные заметки и интервью в отчёт не идут. Но зато я написала книгу про происхождение языка, её уже 8 тысяч экземпляров распродали и спрашивают ещё (сейчас издательство «Альпина нон-фикшн» готовит второе, дополненное, издание). И меня это греет больше, чем пресловутый «индекс цитируемости».

Вы по-прежнему занимаетесь составлением заданий для «Русского медвежонка»?
Последние годы было некогда, но посмотрим. Сейчас появился новый конкурс — «Думай и выбирай», он похож по формату, и на него тоже нужны задачи. Я стараюсь найти что-нибудь нетривиальное и из этого сделать задачу. Например, на последнем «Русском медвежонке» была моя задача о приставке без-. Обычно в русском языке приставка позволяет сделать из глагола несовершенного вида глагол совершенного вида: идти — прийти, делать — сделать, писать — переписать. А приставка без- устроена совсем иначе: она вообще не глагольная, она образует не глаголы от глаголов, а существительные и прилагательные.

Вы продолжаете играть в спортивную версию игры «Что? Где? Когда?»?
Сейчас нет, но, может быть, когда-нибудь вернусь к этому. А пока играю в «шляпу». Это такая словесная игра: берётся шляпа, в неё кладутся маленькие бумажки, на которых записаны слова. Игроки делятся на пары, каждый в свой ход берёт из шляпы бумажку и пытается объяснить партнёру написанное слово. При этом нельзя использовать однокоренные слова, запрещены прямые переводы на иностранные языки и отсылки к буквенному или звуковому облику слов. Объяснения иногда бывают совершенно удивительными! Иногда одно и то же слово используется в разных профессиональных областях, и очень забавно бывает наблюдать, как люди пытаются объяснить его друг другу — и не понимают.
А ещё эта игра очень помогает лексикографам.
Об этом хорошо рассказывает Борис Леонидович Иомдин, можно найти в интернете его лекции и передачи об этом. Он специально записывает такие слова, которые хочет включить в словарь, чтобы посмотреть, что думают о них носители языка, какие объяснения они будут использовать и после какого объяснения угадают. И действительно, ему удаётся заметить какие-то нетривиальные вещи.
Вы интересуетесь историей и другими науками, хотели бы поучаствовать в археологических раскопках?
А я уже однажды участвовала в археологических раскопках — в Новгороде в начале девяностых, удалось поехать со знакомыми студентами РГГУ за компанию. Впечатление, конечно, на всю жизнь! Слои XII-XIII века — и в них лежат кусочки кожи, дерева, бересты... И даже рыбьи косточки! В тот год у археологов была какая-то специальная программа по рыбам, надо было все найденные чешуйки относить начальнику участка, чтобы потом определить, какие виды рыб древние новгородцы употребляли в пищу. Мне несколько чешуек попалось — но в основном почему-то кости.

У меня вообще карма такая: мне рыбьи кости всегда и везде попадаются, даже в филе, даже если на десять порций будет хоть одна косточка, то она достанется мне. Так что когда я, вернувшись с раскопа, пожаловалась, что мне рыбьи кости все перчатки искололи, народ очень потешался. Но на следующий день на том же квадрате оказалась другая девочка — и подтвердила, что это не я такая, а квадрат такой. Похоже, что на том месте в древности жил сапожник, сапоги тачал и воблу ел (или что у него там было вместо воблы): на одном-единственном квадрате (два на два метра) нашли целых пять ящиков кожаных обрезков (не объектов, а именно обрезков) и огромное количество рыбьих костей. А потом в один из дней мне дали расчищать кусок мостовой, и я нашла там кожаные ножны с остатками тиснения.

Как оказалось, Светлана не только занимается лингвистикой и интересуется раскопками, она ещё и шьёт. Свой рюкзак, например, она сшила сама, и даже красавицу-сову, к рюкзаку пристёгнутую. Говорит, что сова её любимый символ, потому что по природе своей она сама сова.